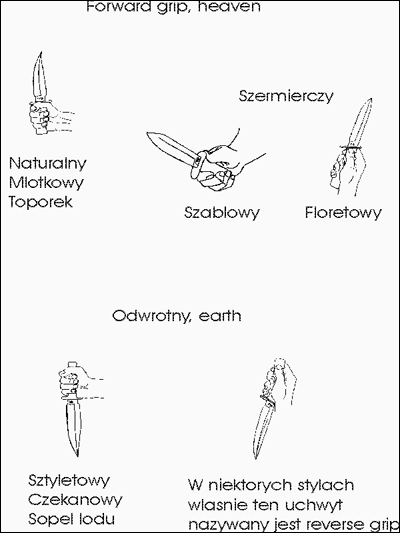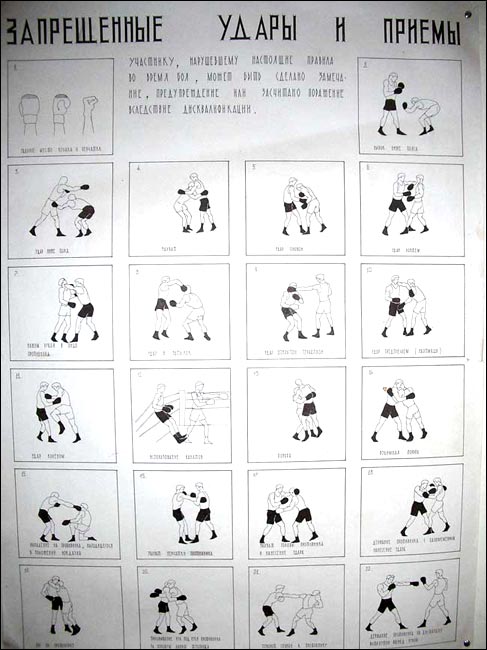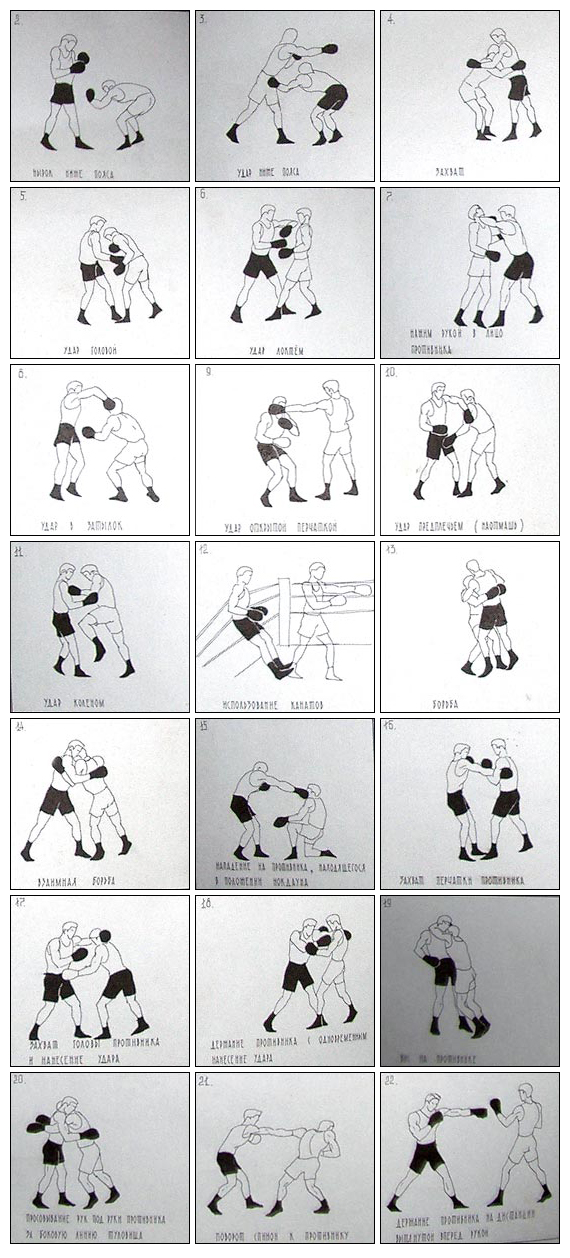Одновременно с расцветом японского феодализма и выделением сословия самураев в Японии начало распространяться учение одной из наиболее влиятельных и популярных впоследствии сект буддизма — «Дзэн», или «Дзэнсю». В переводе с японского «дзэн» означает «погружение в молчаливое созерцание», овладение внешними и духовными силами для достижения «просветления». Основателем секты «Дзэн» (кит. — «чань», санскр. — «дхьяна») считается буддийский священник Бодхидхарма (яп. Бодай Дарума), который проповедовал свое учение сначала в Индии, а затем в Китае. Из Китая на Японские острова Дзэн-буддизм принесли два буддийских патриарха Эйсай (1141-1215) и Догэн (1200-1253). В конце xii в. в стране уже началась его проповедь. Вслед за признанием представителями правящих кругов феодальной Японии учение Дзэн стало быстро распространяться среди сословия самураев — опоры правительства сёгунов.
Принятие Дзэн сословием воинов было закономерным. До становления системы сёгуната воины практиковали поклонение господствующему в пределах «священной земли» (дзедо) — буддийского рая — будде Амида (Амитабха). Идея амидаизма, или учения буддийской секты «дзсдо», была крайне проста. Суть его заключалась в постоянном повторении имени Амида («Наму Амида буцу!» — «Преклоняюсь перед буддой Амида!»). Любому человеку, по толкованию монахов «дзёдо», каким бы он ни был — плохим или хорошим, для «спасения» (для «будущего рождения») достаточно было только без конца повторять эту молитву. Однако с превращением самурайства в политическую силу в период Камакура и началом его развития как сословия феодального общества простое взывание к будде Амида, не развивавшее в воине ничего, кроме безволия и пассивности, стало недостаточным. Самурай должен был настойчиво воспитывать волю, акцентировать внимание на самообладании и хладнокровии, которые были необходимы воинам-профессионалам в междоусобных войнах, экспедициях против айнов, борьбе с аристократией Киото и при усмирении крестьянских восстаний.
Вот в это время и вышли на сцену проповедники Дзэн, которые доказывали, что постоянная работа над собой, умение выделить суть любой проблемы и сосредоточиться на ней, невзирая ни на что идти к цели, имеют большое практическое значение не только в монашеской, но и в мирской жизни. С этого времени Дзэн-буддизм стал духовной основой сословия воинов; число адептов, исповедовавших его учение, неуклонно возрастало. В последующем Дзэн-буддизм непрерывно развивался. По данным религиозного ежегодника «Сюкё нэнкан» на 1956 г., это привело к следующему соотношению численности его храмов, священников и приверженцев:
|
Численность |
|||
| Секта «Дзэн» | храмов | священников | приверженцев |
| Сото | 15021 | 15224 | 1574311 |
| Риндзай | 5854 | 5951 | 3007405 |
| Обаку | 523 | 520 | 148861 |
Одной из основных причин, привлекавших самураев к учению Дзэн, была его простота. Согласно доктринам дзэнсю, «истина Будды» не поддается передаче в письменном или устном виде. Любые дидактические пособия или комментарии не могут содействовать раскрытию истины и поэтому ложны, а средства анализа, сравнения или поэзии при комментировании учения порочны. Дзэн выше словесного выражения и «коль скоро оно будет ограничено словами, то уже потеряет все свойства Дзэн». Отсюда и тезис теоретиков Дзэн-буддизма, что Дзэн якобы не может рассматриваться как учение, так как логическое познание мира невозможно. Достижению желаемого способствует только интуиция, которая посредством созерцания и может привести к постижению «истинного сердца Будды».
Таким образом, самураю совершенно не требовалось отягощать свой ум изучением религиозной литературы.
Тем не менее, несмотря на принципиальное отрицание книг, письменных предписаний и толкований секта «Дзэн» пользовалась книгами и буддийскими текстами для пропаганды своего учения. Это противоречило положению о чисто интуитивном познании истины. Так или иначе самураю приходилось вникать в философию Дзэн-буддизма либо самостоятельно, либо при помощи наставника школы (секты), так как каждый человек в отдельности не мог самостоятельно уловить суть Дзэн, не имея о нем представления.
Дзэн-буддизм импонировал самураям выработкой у них самообладания, хладнокровия, воли — качеств, столь необходимых для воина-профессионала. Большим достоинством самурая считалось не дрогнуть (внешне и внутренне) перед неожиданной опасностью и сохранить при этом ясность ума и способность трезво мыслить, отдавая себе отчет в своих поступках и действиях. На практике самурай должен был, оставаясь «неотягощенным телесно или душевно», обладая железной силой воли, идти прямо на врага, не смотря назад или в сторону, для того чтобы его уничтожить, — и это все, что от воина требовалось. В то же время Дзэн учило человека быть невозмутимым и сдержанным во всех жизненных ситуациях. Исповедующий Дзэн-буддизм обязан был не обращать внимания даже на оскорбления, что было очень нелегко для представителей «благородного» сословия.
В сочетании и связи с самодисциплиной находилось и другое качество, прививаемое воинам Дзэн,- беспрекословное повиновение господину и военачальнику. Множество историй и рассказов феодальной Японии повествует об этой особенности средневековых японских рыцарей. В одном из старинных повествований рассказывается о некоем даймё, который вместе с остатками разбитой неприятелем дружины оказался в безвыходном положении — на краю высокой скалы, окруженным со всех сторон самураями врага. Не желая сдаваться в плен на милость победителя, даймё решил погибнуть, как подобает всякому мужественному воину. «За мной!» — вполголоса сказал князь и бросился в пропасть. Все самураи немедленно последовали примеру своего господина, ни на минуту не задумываясь над приказом военачальника. Подобная легкость, совершенное спокойствие и душевная ясность в расставании с жизнью также были обусловлены воспитанием по системе Дзэн.
Бытие в существующем мире признавалось Дзэн-буддизмом лишь видимостью, а не действительностью. Внешний мир, по буддийским представлениям, иллюзорен и эфемерен, он только проявление всеобщего «ничто», из которого все рождается и куда все уходит, а жизнь в нем дана людям на время и подлежит возвращению (причем это может случиться в любой момент). Поэтому Дзэн-буддизм учит человека не цепляться за жизнь и не бояться смерти. Именно это презрение к смерти и притягивало к Дзэн самураев.
Концепция непостоянства всего существующего, эфемерности и призрачности жизни (мудзё), выработанная в Японии под непосредственным влиянием буддизма, связывала в то же время все кратковременное с понятием прекрасного и облекала это недолговечное текущее мгновение или очень непродолжительный отрезок времени (цветение вишни и опадание ее лепестков, испарение капель росы после восхода солнца с поверхности листа и т. д.) в особую эстетическую форму. В соответствии с этим тезисом и жизнь человека считалась тем прекраснее, чем она короче, особенно если это «ярко» прожитая жизнь. Отсюда и небоязнь смерти, «искусство умирать».
Другой составной элемент в теории «легкости смерти» был обусловлен влиянием конфуцианства. Нравственная чистота, чувство долга, дух самопожертвования ставились на недосягаемую высоту. Японца учили ради императора, господина, нравственного принципа жертвовать всем. Смерть во имя исполнения долга считалась «настоящей жизнью».
Самураи, воспользовавшиеся догмами буддизма и конфуцианства, приспособили их к своим профессиональным интересам. Этика и психология самурайства еще больше усилили акцент на героике смерти, духе самопожертвования ради высшего идеала воина — служения господину, окружили смерть ореолом славы. В период междоусобных войн был выработан особый культ смерти, с которым был тесно связан описанный выше обряд самоубийства путем вскрытия живота — харакири. Обусловлено это было тем, что воин-профессионал постоянно находился на грани жизни и смерти. Поэтому самурай культивировал в себе небоязнь смерти и пренебрежение к земному существованию.
Отложило отпечаток на воззрение о смерти и то положение буддизма, по которому жизнь вечна и смерть — лишь звено в бесконечной цепи перерождений, при которых каждое живое существо возрождается к жизни через определенный промежуток времени. Смерть индивидуума, по рассуждениям буддистов, не означала конца существования его в будущих жизнях. Поэтому человек должен был безропотно подчиняться «великому закону возмездия», своей карме (го), т. е. судьбе, определенной степенью греховности в прошлом существовании, не выражать неудовольствия жизнью. По словам Томомацу Энтая, этим объясняется гибель многих воинов на полях сражений с улыбкой и словами буддийской молитвы на устах, это же повлияло и на формирование «этикета смерти», который обязан был знать и исполнять каждый самурай. Дзэн-буддизм воспитывал такое отношение к вопросам жизни и смерти, при котором отсутствовали страх перед гибелью, собственное «я» и осознание своих выгод и невзгод.
Однако, несмотря на согласованность догм буддизма и самурайской этики, между ними существовали и противоречия. Как известно, буддизм категорически запрещает всякое убийство. Оно считалось одним из пяти «великих» грехов. Тем не менее феодальная жизнь требовала как раз обратного: постоянного нарушения этой заповеди. Японские феодалы, естественно, не хотели и не могли изменить свою социальную природу и поэтому вынуждены были уделять известное внимание различным видам «искупления» своего жизненного пути, на котором убийства как бы носили характер «профессионально-бытовой необходимости». Формами такого «искупления» были щедрые пожертвования храмам, пострижение в монахи, обращение к духовенству для исполнения поминальных и умилостивительных треб.
Очень велико было также значение Дзэн в военно-спортивной подготовке самураев. Решающая роль при фехтовании, стрельбе из лука, борьбе без оружия, плавании и т. д. отводилась японцами не физическому, а духовному состоянию человека. Психическая уравновешенность и самообладание, выработанные Дзэн, являлись здесь превалирующими.
Основным методом (путем к познанию истины) в обучении по системе Дзэн была медитация (дзадзэн) — созерцание в положении сидя, в совершенно спокойной позе со скрещенными ногами, без каких-либо мыслей. Для медитации обычно выбирались сад или помещение, из которых по возможности уносили предметы, могущие помешать практикующемуся, отвлекающие его.
Разными школами Дзэн-буддизма были выработаны различные правила поведения во время дзадзэн, однако основным при созерцании считалась тренировка легких, обучение размеренному дыханию, что содействовало якобы «самоуглублению» и воспитанию «выдержанности и терпения». После этой первой ступени к просветлению, когда дыхание становилось ровным, голова освобождалась от притока крови и мозг человека освобождался от всяких мыслей (такое состояние называлось «мусин»), практикующийся, по утверждениям дзэновских монахов, мог уже достичь муга (отсутствия «я»), другими словами, выйти за пределы собственного бытия, осмысления своего существования. На человека, пребывающего в подобном состоянии самоуглубления, по учению школы дзэнсото, могло внезапно снизойти просветление (сатори).
Другим путем к «истинному прозрению» был коан — вопрос, задаваемый наставником Дззн ученику. Этот метод практиковался школой риндзаи. Вопросы учителя должны были возбудить интуицию ученика или, иными словами, вызвать сатори. От какой бы то ни было логики и связности в ответе на коан необходимо было освободиться, ибо это мешало вхождению в состояние «безмыслия». При полном отсутствии мышления во время вопросов и ответов (мондо) могло наступить «просветление».
В некоторых случаях для достижения сатори наставниками использовалась «шокотерапия»: удар палкой, толкание в грязь, щипки за нос и т. д. Такая практика рассматривалась иногда некоторыми теоретиками Дзэн как средство для наступления «просветления» при учебном фехтовании на самурайских мечах (например, удар тренировочным мечом). В идеале считалось, что человек, испытавший сатори, внешне не должен был измениться, однако у него вследствие сильного психологического стресса («просветления») появлялся будто бы новый взгляд на жизнь, на свое место в ней, иное отношение к действительности, которое не поддавалось ни объяснению, ни описанию словами. «Просветленный», по утверждениям дзэновских монахов, мог быстро находить единственно правильное решение в любой ситуации, становился человеком, способным в высшей мере управлять своей волей, другими словами, приобретал все то, что требовалось для каждого самурая. В то же время власть, слава, победа и т. д. — все то, к чему стремился японский воин, становились для самурая после «просветления» малоценными сами по себе.
Собственно же созерцание в Дзэн-буддизме, признаваемое единственным путем для достижения истины, сущность которой заложена в сознании каждого индивидуума, по сути своей является полностью идеалистическим.
В xiv-xvi вв. «Дзэнсю» достигла наивысшего расцвета и стала наиболее влиятельной буддийской сектой, поддерживаемой правительством сегунов. В то время Дзэн-буддизм оказал значительное воздействие на развитие всех областей культуры Японии. Само собой разумеется, что в первую очередь эту культуру воспринял сам господствующий класс средневековой Японии, в том числе и сословие самураев, которое пользовалось культурными ценностями, создаваемыми в стране. Однако в связи с развитием Дзэн самурайство несколько изменило свои воззрения на жизнь и смерть, культуру и ее восприятие.
Дзэн в тот период было уже не столь строгим учением, как первоначально. Наряду с тезисом о готовности в любую минуту хладнокровно уйти из жизни самураи приняли также положение, по которому человек одновременно обязан жить, наслаждаясь жизнью, вычерпывая ее до самых глубин. «Солдатский дух должен был связывать себя с подлинной художественностью», а «японский воин — обладать не только военной доблестью (бу), но и культурой, гуманностью (бун)».
Так, некоторые самураи в редкие периоды мирного времени, кроме военных упражнений, предавались чайной церемонии, рисовали иногда тушью, любовались искусной аранжировкой цветов и даже принимали участие в представлениях театра. Но все эти элементы культуры средневековой Японии в большей или меньшей степени подвергались при своем развитии воздействию учения Дзэн или были порождены им. Хотя это и выглядело парадоксально, но в свете дзэновских утверждений о ненужности знаний, о закалке одной лишь воли индивидуума буси считали положительным и полезным для своей профессии восприятие подобных производных Дзэн, помогающих в сложении характера воина. Например, в тяною — чайной церемонии, процветавшей первоначально в стенах буддийских монастырей и использовавшейся дзэновским духовенством для распространения своего учения, практиковались те же методы «духовного совершенствования личности», что и в Дзэн. Обстановка чайной церемонии отчасти напоминала медитацию. Она должна была способствовать сосредоточению мысли, спокойствию духа, чистоте помыслов, гармонии с природой. Для того чтобы суета внешнего мира не мешала созерцанию и спокойной беседе, чайные домики (тясицу) и приемные для ожидания церемонии (ёрицуки) устраивались вдали от шумных мест, чаще всего в глубине сада. Это обусловило в большей степени интерес к тяною во дворцах сёгунов, даймё и многих знатных самураев. При Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси был развит и введен сложный комплекс действий, сопровождавших тяною. Помещение чайной комнаты было уменьшено и лишалось всяких излишеств. Самураи не должны были отныне вносить в нее мечи; они оставляли их на подставках или особых крюках перед входом, так как чайная комната считалась обителью мира.
Создать надлежащую обстановку при молчаливом созерцании призваны были и сухие сады, которые первоначально устраивали дзэновские монахи в своих монастырях. Каменные сухие сады, названные японцами «садами медитации и мышления», представлявшие собой ровные площадки с установленными на них в определенном порядке камнями и окруженные глухими стенами, наиболее подходили для упражнений в психотерапии, развивали философский образ мыслей в дзэновском понимании и учили «видеть скрытое содержание» того, что было не завершено, -понимать внутреннюю глубину явлений (югэн).
В xiv в. учение Дзэн коснулось также представлении театра «Но» — искусства аристократии и знатного дворянства, развившегося из фарсового танца саругаку. Театр «Но» представлял собой скорее «созерцательное искусство», насыщенное символикой и часто непонятное простому народу. Пьесы «Но» прославляли действия мифических персонажей, героев, верность вассала господину. Они подразделялись на исторические, или военные (сюра-но), и лирические, или женские (дзё-но). К представителям «Но» покровительственно относились сёгуны, причем Хидэёси сам выступал на сцене с песнопениями и пантомимическими танцами. В танцах «Но» принимали участие также рядовые феодалы, придворные и воины, это считалось признаком хорошего тона, «исполнением долга» вассала и т. п.
Тем не менее классические положения Дзэн идеалистического плана все больше расходились с мировоззрением, выработанным самураями на основе дзэновских «искусств». Развитие науки и связанной с ней военной техники, металлургии, горного дела и т. п. расширило круг интересов самурайства. Новинки вооружения и военного искусства показывали, что одной воли для сражения недостаточно, необходимы знания, основанные на книгах, логическое мышление, которое не может рассматриваться как продукт созерцания по системе Дзэн, достаточное для своего времени и сословия образование. Все это в какой-то мере меняло догмы Дзэн в соответствии с духом эпохи.
После окончания периода междоусобных войн противоречия между Дзэн и воспитанием воина по системе Дзэн стали еще заметнее. Самураи, переставшие участвовать в военных действиях, получили больше времени для образования вообще. Многие буси в силу различных обстоятельств оставляли свою профессию и становились учителями, художниками, поэтами.
Важное место в религиозном мировоззрении самураев занимал древний культ синто, который мирно сосуществовал с буддизмом. Основной чертой этой религии японцев было почитание сил природы, местных божеств, предков.
В качестве одной из трех главных синтоистских святынь японцами рассматривался священный меч.
По легенде, священный меч синто был извлечен мифическим персонажем — богом грома Сусаноо из хвоста восьмиголового змея и затем подарен им сестре — богине солнца Аматэрасу. Позднее Аматэрасу вручила меч, восемь кусков нефрита и Зеркало своему внуку Ниниги-но Микото, отправляя его властвовать на земле. Со временем меч превратился в символ самурайства и «душу» японского воина.
Меч наряду с драгоценностью и зеркалом стал в ряде случаев рассматриваться синтоистами как «тело» или «облик» бога (синтай), который помещался в закрытой части главного храма любого комплекса синто — хонся. Иногда мечи не только служили синтаем, но и обожествлялись. Богом, почитаемым в Ацута, например, был пресловутый меч Кусанагй, добытый Сусаноо в хвосте убитого им змея, богом же Исоноками считался меч, названный «Фуцу-но Митама».
Кроме меча, синто освящало также другое оружие самураев, в частности, копье. В честь копья в одном из районов Эдо Одзи устраивался 13 августа древний самурайский праздник «яримацури». Праздник проходил при обязательном присутствии двух самураев в доспехах черного цвета с копьями и мечами (у каждого из воинов на поясе висело по семь мечей длиной более четырех сяку каждый) и восьми мальчиков-танцоров, бросавших после исполнения танцев («сайбара» и «дэнгаку») в толпу свои шляпы, которые рассматривались как талисманы счастья.
В этот же день священники синто раскладывали в храме маленькие копья. Их разрешалось уносить верующим с собой, однако с условием возвращения на следующий год не одного, а двух таких же миниатюрных копий. Они служили амулетами, защищавшими якобы от воровства и пожара.
Синто требовало от самураев обязательного почитания умерших предков и поклонения душам убитых в бою воинов, военачальников, обожествленных героев и императоров. Считалось, что умершие прародители становились богами и, наделенные сверхъестественной силой, оставались в мире живых, влияя на события, происходившие в реальности. Многочисленные божества, населявшие этот мир, и рядовые духи-покровители (удзигами) в особенности, могли, по представлениям японцев, распоряжаться человеческими судьбами, влиять на успех или неудачу в жизни, оказывать воздействие на ход сражения и т. д. Поэтому самураи верили в божественную предопределенность и ставили свою волю в полную зависимость от «воли богов». Перед каждым военным предприятием воины обращались к удзигами, боясь навлечь на себя гнев духов предков, ибо они властвовали над природой, и все бедствия — это месть духов за несоблюдение благочестия.
Почитание предков влекло за собой почитание родины — «священного места обитания богов и душ предков». Синто учило любви к родине еще и потому, что Япония, и только она одна, является «местом рождения» Аматэрасу — богини солнца, которая передала управление страной своим «божественным потомкам».
Поклонение предкам и местным божествам развивалось в культ национальных богов и императора (тэнно) — «посланника Неба», «источника всей нации», единственного из всех правителей земли, имеющего «божественное происхождение», власть рода которого передается из века в век неизменно и непрерывно.
Это имело большое значение в формировании понятия верности самурая феодалу, императору и Японии в целом, проявившемуся во всех несправедливых войнах, которые велись под знаменем национальной исключительности «японской расы». Кроме душ предков, героев и т. д., самураи особенно почитали синтоистского бога войны Хатимана, прототипом которого являлся обожествленный, по традиции синто. легендарный император Японии Одзин. Впервые Хатиман упоминается как «помощник» японцев в 720 г., когда он, по преданию, оказал эффективную помощь в отражении нашествия со стороны Кореи. С тех пор его стали считать покровителем японских воинов. Перед каждой военной кампанией самураи возносили Хатиману молитвы, просили его оказать поддержку в предстоящей борьбе, приносили клятвы — «юмия-Хатиман» («да увидит Хатиман наши луки и стрелы» или «клянусь Хатиманом»).
Наряду с Хатиманом самураи признавали богами войны мифического тэнно Дзимму, основателя императорской династии, императрицу Дзингу и ее советника Такэти-но Сакунэ, а также принца Ямато-дакэ (Ямато-такэру), покорившего айнский восток Японии.
В честь богов воины устраивались в определенные дни празднества. Одним из них был «гунсинмацури», торжественно отмечавшийся 7 октября на территории синтоистского храма в Хитати. Ночью в пределах храма собирались мужчины с мечами (дайто) и женщины с алебардами (нагината), развешивались бумажные фонари, которые затем сжигались.
Синто, являясь исконной религией японцев, однако редко присутствовал в чистом виде в религиозной жизни самураев. Буддизм, проникший в середине vi в. в Японию, был более развитой (при этом — мировой) религией, нежели примитивный синтоизм. Поэтому он был сразу же принят правящими кругами страны и использован в их интересах. Тем не менее синтоистские священнослужители не желали отказываться от своих привилегий и опирались на народные массы, продолжавшие исповедовать традиционную религию. Это заставило буддийское духовенство и правителей древней Японии идти по пути сотрудничества двух религий, что со временем привело практически к синкретизму синтоизма и буддизма.
Слияние синто и буддизма отразилось на духовной жизни самурайства. Нередко японские воины перед военными походами или решающей битвой одновременно поклонялись духам синто и божествам буддизма. В результате подобного сосуществования многие боги синто стали наделяться особенностями буддийских бодхисаттв, в то время как пантеон буддизма пополнялся принятыми в него божествами синтоизма. Культ Хатимана, в частности, номинально являвшегося богом синто, был глубоко пропитан буддизмом. Многие из изречений, приписанных Хатиману, явно носят буддийский характер, так как в них он называет себя Босацу — бодхисаттвой — чисто буддийским термином.
Одновременно с буддизмом в Японии начало распространяться конфуцианство чжусианского толка. Учение Конфуция, переработанное Чжу Си, представляло собой консервативное, догматическое течение более идеологического, чем религиозного плана, так как оно включало в себя, кроме религиозных, очень слабо развитых, еще и этические моменты. В Японии конфуцианство пошло по пути адаптации в местных условиях, сливаясь с буддизмом и синто, воспринимая некоторые их положения. Конфуцианство подтвердило синтоистские требования о «верности долгу», послушании и повиновении подданного своему господину и императору, требовало морального совершенствования посредством строжайшего соблюдения законов семьи, общества и государства. Главной обязанностью каждого мужчины конфуцианство, как и синто, считало обязательное почитание прародителей и отправление культа предков: оно учило дисциплине, повиновению, уважению старших. Всем этим прежде всего и была обусловлена активная поддержка конфуцианства феодальными правителями Японии. Это сделало конфуцианство основой воспитания в среде господствующего класса, и в частности самураев.
В основе конфуцианства лежал принцип патриархальности, который ставил сыновнюю почтительность превыше всего. Согласно конфуцианскому учению, в мире существует большая мировая семья, состоящая из Неба-отца, Земли-матери и человека-дитяти. Вторая большая семья — государственная. В ней император является одновременно и Небом и Землей (отцом и матерью), министры — его старшие сыновья, народ — младшие. И, наконец, обыкновенная семья (политическая и социальная единица). Глава каждой семьи должен повелевать своими домашними и отвечать за них перед государством, которое признает только семью и игнорирует отдельную личность. Отсюда догмат верности и беспрекословного подчинения отцу, феодальному князю (который в конфуцианском смысле слова рассматривался так же, как «отец»), сёгуну.
Конфуцианство учило, что человек становится человеком в силу пяти добродетелей (постоянств), отличающих его от животного.
Первой из них конфуцианство называет человеколюбие, сущность которого — любовь и проявление — добро. Далее следует справедливость — все хорошее и правильное, вес, что в данном случае соответствует разуму. Называется это хорошее и справедливое долгом (другими словами, исполнять свой долг — это действовать в интересах других, не обращая внимания на свою собственную пользу). Третья добродетель — благонравие, почтение к людям, почтительное отношение к «стоящим выше нас» и непрезрительное отношение к «стоящим ниже нас». Иначе говоря, благонравие — это скромность. Четвертая добродетель — мудрость. Быть мудрым — значит быть сведущим в причинах явлений, знать хорошее и дурное, различать правду и неправду, добро и зло и разбираться даже в том, что не слышно уху и не видно глазу. Последняя, пятая добродетель — правдивость — это то, что незыблемо, непреложно, что без лжи и фальши твердо согласуется с «путем», то, что есть правда и истина и т. д. Все эти положения, заимствованные японским философом Кайбара Экикэн у интерпретатора учения Конфуция чжусианской школы Чжоу-цзы, и представляют основу конфуцианства, принятого в Японии.
Понятие человеколюбия, по Конфуцию, включает в себя все положительное, содержащееся в вышеуказанных добродетелях, поэтому он говорил только о человеколюбии как о главной добродетели, включающей в себя все перечисленные постоянства. Если человек, следуя природе пяти постоянных добродетелей, или человеколюбия, «не находится под пагубным бременем своих страстей и только всецело предоставляет себя влечению естественного начала», то в его жизни возникают пять человеческих отношений: между родителями и детьми; господином и слугой; мужем и женой; старшими и младшими братьями; между друзьями. Эти пять основных отношений называли «горин».
Для самурая отношение между господином и слугой было основным. Из этого отношения черпались понятия о долге господина перед слугой и слуги перед господином. Содержание своих слуг было законом нравственного долга господина, и он не мог это считать своей милостью по отношению к слугам, так как жил трудом своих слуг и должен был, наоборот, смотреть на это как на милость с их стороны. Для слуг же служение господину есть долг и обязанность, а не милость. С благодарностью должны они получать от своего господина выдачи натурой или деньгами, и их должна воодушевлять только одна мысль: отдать свою жизнь за него. «Это — закон нравственного долга слуги», — говорится в конфуцианском учении. Такие отношения — не что иное, как «справедливость», или «нравственный долг господина и слуги».
Идея верности господину и неразрывно связанное с ней понятие долга были выдвинуты в Бусидо на первый план, в то время как более отвлеченные философские положения конфуцианства претерпели на японской почве соответствующую перегруппировку и переоценку, не меняя, однако, своей сути. Верность («служение господину как источнику всех благ») и долг («осуществление этой верности») во всей конфуцианской этике являлись наиболее активными элементами, все остальное считалось второстепенным и «покрывалось практическими идеями» этих .двух понятий, занимало как бы побочное, служебное положение.
Но верность господину могла выражаться не только в постоянном служении ему, готовности в любой момент пасть за него. Вассал проявлял свою верность также тем, что следовал за своим господином по пути смерти, выражавшемся в «самоубийстве вслед», которое стало к xiv в. распространенной формой исполнения долга.
Таким образом, религиозное мировоззрение самураев слагалось из догм буддизма и конфуцианства, привнесенных в Японию из Китая, и элементов веровании и обычаев местной национальной религии — синто, которая вошла с ними в тесное соприкосновение.
Со временем элементы этих трех религий переплелись и составили как бы единое целое. Другие большие религии и религиозные течения оказали на сословие воинов менее существенное влияние.