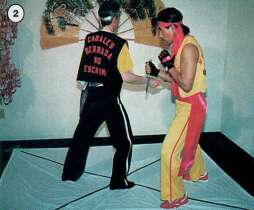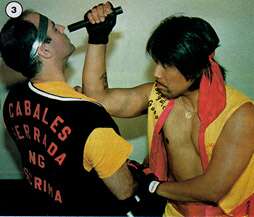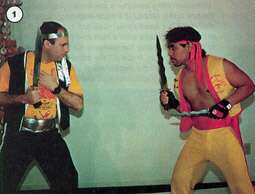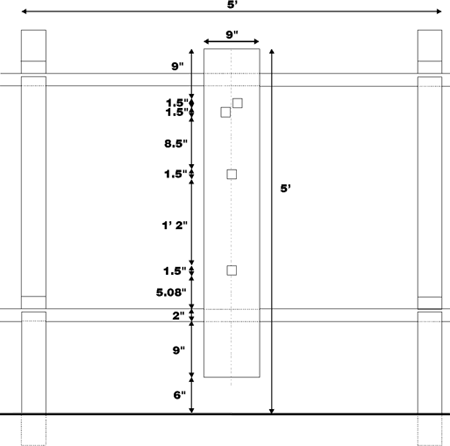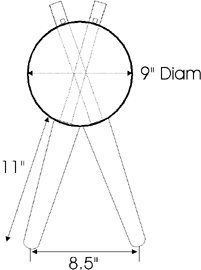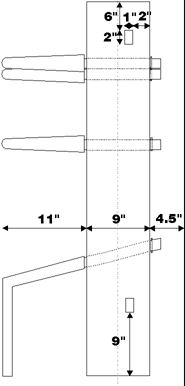Дзигоро Кано родился 28 октября 1860 года в Микагэ.
Возвышающийся над безмятежным Осакским заливом и окаймленный величественной горной грядой Рокко, Микагэ (ныне часть города Кобэ) был в те времена одним из самых привлекательных районов Западной Японии. Этой области дарованы умеренный климат и чистая вода — два источника, обеспечивающих хорошие условия для приготовления сакэ, до сих пор входящего в ряд основных производств этого района.
По линии отца Марэсибы корни Кано уходили к самым началам истории Японии, и среди его предков было множество прославленных монахов-синтоистов, мастеров буддизма и последователей Конфуция. Его мать Садако относилась к одному из самых известных кланов изготовителей сакэ (они варили знаменитый сорт Кику-Масамунэ). Кано, вместе с двумя старшими братьями и двумя старшими сестрами, вырос в доме, который считался одним из самых больших и богатых в округе.
Хотя обстоятельства юности Кано вполне завидны, его воспитывали в строгости и суровой дисциплине. Кано сохранил нежные воспоминания о доброй и внимательной матери, но он говорит о ней как о человеке, нетерпимом к любым проявлениям недостойного поведения. Марэсиба лично занимался образованием своего младшего сына, сам обучал его основам знаний и организовал для него дополнительные уроки по китайской классической литературе и каллиграфии.
После смерти Садако в 1869 году, Марэсиба, ставший к тому времени предпринимателем и правительственным чиновником и активно поощрявший модернизацию Японии периода Мэйдзи, перебрался с семьей в новую столицу, Токио. Наиболее ярким из первых впечатлений юного Кано от столицы было зрелище ронинов, с важным видом расхаживающих по улице и гордо выставляющих напоказ два своих меча (запрещение ношения мечей было издано через несколько месяцев после переселения семьи Кано в Токио).
Кано приняли в СэтацуСёдзю-ку, частное учебное заведение, которое возглавлял ученый Кэйдо Убуката. Уникальность этой школы заключалась в том, что в ней учились не только отпрыски аристократов и самураев (прежде образование было исключительной привилегией высших классов). Среди учеников школы были также дети торговцев, ремесленников и представителей других классов; некоторые из них обучались борьбе сумо, мастерству актеров театра Ка-буки и искусству гейш.
Убуката был высокочтимым каллиграфом и известным ученым, и, помимо усиленной подготовки своих учеников в классической литературе Японии и Китая, он заставлял их заполнять кистью до трех блокнотов ежедневно. Вечером после занятий Убуката часто проводил с учениками личные беседы, во время одной из которых сказал Кано, что, несмотря на бесценность классического образования, современным японским студентам необходимо тесно знакомиться и с западной культурой.
Кано воспринял совет Убукаты всем своим сердцем и, после первого знакомства с английским языком в академии Сюбэй Мицукури, поступил в 1873 году в Икуэй Гид-зюку, где все курсы читались на английском или немецком языках иностранными преподавателями, а учебник математики, например, был на голландском. В общежитии этой школы способный, высокородный, а временами и сноб, Кано стал беззащитным объектом жестоких насмешек со стороны ревнивых старшеклассников. Кано, разумеется, был чрезвычайно удручен столь печальным положением и именно в этот беспокойный период впервые услышал о дзю-дзюцу, боевом искусстве, в котором небольшая физическая сила позволяла противостоять сильным атакам. Кано не удалось заняться дзю-дзюцу именно в то время, но он все же пытался укрепить свое тело, обратившись к различным видам спорта, включая появившийся в Японии совсем недавно бейсбол.
В 1874 году Кано поступил в Токийскую школу иностранных языков, где продолжил изучение английского языка. Его прежние учителя английского были голландцами и немцами, и он совершенно растерялся, столкнувшись с настоящим британским и американским произношением. Примечательна та неутомимость, с какой Кано изучал английский язык в достаточно трудных условиях. В то время редкими были обычные словари; студенты академии часто довольствовались одним экземпляром учебника на всех, а перед экзаменами «смена» Кано в очереди на учебник нередко приходилась на время с часа ночи до пяти утра. Несмотря на эти трудности, Кано в совершенстве овладел языком и большую часть своей жизни вел дневник на английском (позже Кано записывал технические детали своего учения будо также на английском — вероятно, для того чтобы держать их в секрете. Его письменный английский язык совершенно великолепен и считается в Японии одним из лучших образцов).
Окончив Школу языков, Кано поступил в Академию Кайсэй, еще одну школу, поддерживаемую правительством. В 1877 году она стала Токийским университетом, и Кано удостоился чести стать одним из самых первых выпускников этого лучшего национального учебного заведения Японии. Кано выбрал своими основными направлениями политические науки, философию и литературу (как оказалось, любимейшим его предметом стала астрономия). В то время Кано вновь столкнулся с задирами и буянами, как вне, так и на территории студенческого городка, и исполнился еще большей решимости приступить к изучению дзю-дзюцу. Однако в тот исторический период было совсем нелегко найти себе подходящего учителя.
В период Токутавы (1600— 1868) в любом районе Японии к учителям боевых искусств относились как к само собой разумеющемуся явлению, а каждый самурай, будь то мужчина или женщина, проходил интенсивную подготовку в бу-дзюцу. Однако с момента краха в 1868 году феодальной системы поддержка академий боевых искусств со стороны государства иссякла, и большинство из них закрылось. Более того, с переходом страны к западному образу жизни большая часть японцев потеряла интерес к классическим боевым искусствам.
«Времена изменились, и подобные вещи стали теперь бесполезными», — откровенно предупреждали Кано не только его отец, но и многие бывшие мастера боевых искусств.
Но Кано упорствовал и наконец в 1877 году нашел хорошего учителя, Хатиносукэ Фукуду (1829—1880) из Тэнсин Синъё-рю. В этом Рю, основанном Матаэмоном Исо (скончался в 1862), занимались относительно новым стилем дзю-дзюцу, и основное внимание в нем уделялось атэми (поражению анатомически слабых точек) и технике захвата. Говорят, что Матаэмон освоил многие свои приемы в уличных схватках с бродягами, терроризировавшими местное население (к концу периода Сёгуната закон и порядок пришли к полному упадку); предположительно, он владел 124 видами различных ударов кулаком.
Пятидесятилетний Фукуда, зарабатывавший себе на жизнь хиропрактикой, занимался в небольшом додзё* с несколькими постоянными учениками. Кано от всей души предался занятиям и, даже если рядом никого не было, занимался в одиночестве и выполнял различные движения с тяжелым железным шестом, которые ему преподал Фукуда (судя по всему, Кано одновременно изучал бо-дзюцу, сражение на палках, в додзё при Ягю Сингэн-рю). Перед занятиями Кано непременно покрывал тело сильнодействующим, но отвратительно пахнущим бальзамом собственного приготовления и потому быстро получил среди своих одноклассников прозвище «Кано Благоухаюций». Каждый вечер, вернувшись хомой, он показывал старшим брагу и сестре то, чему научился в додзё ?укуды в течение дня.
Во время занятий дотошный Кано докучал Фукуде просьбами о подробнейшем объяснении каждого приема — точного расположения рук и ног, правильного «угла вхождения», распределения веса и так далее — но учитель обычно произносил только: «Подойди», — и вновь отправлял Кано на землю, пока пытливый ученик не обретал практического понимания приема благодаря опыту «из первых рук». Главным партнером по упражнениям для Кано был могучий тяжеловес по имени Фукусима. Он постоянно побеждал Кано в рандо-ри (соревнования в вольном стиле), и Кано обратился за советом к своему другу, борцу сумо, надеясь, что приемы этой борьбы дополнят его опыт. Однако сумо не смогло помочь ему, и Кано отправился в Токийскую библиотеку, желая посмотреть, что предлагается в книгах по западной борьбе. Там он обнаружил технику, которую успешно применил против Фукусимы и впоследствии назвал ката-гурума («мельница»).
В мае 1879 года Кано и Фукусима попали в отборную группу мастеров боевых искусств, организованную для инсценированной демонстрации бывшему президенту Соединенных Штатов Гранту во время его визита в Японию. Представление было принято генералом Грантом и другими американцами весьма благосклонно и широко освещалось в прессе США. К несчастью, вскоре после этого, в возрасте пятидесяти двух лет, скончался учитель Кано, Фукуда. Кано пытался самостоятельно проводить занятия в додзё, но очень скоро понял, что ему самому еще не хватает подготовки.
Кано продолжил свою учебу в Тэнсин Синъё-рю у Масамото Исо (1818—1881), сына основателя этой школы. В то время Масамото было за шестьдесят, и он уже не участвовал в рандори, но все еще считался мастером ката, приемов, проводимых согласно определенной схеме (позже Кано рассказывал своим ученикам, что ката в исполнении Масамото были «самым прекрасным зрелищем из всех, что мне доводилось видеть»). Кроме того, тело Масамото было словно отлитое из чугуна и без ущерба выдерживало прямой удар деревянного меча.
Обучение у Масамото позволило Капо овладеть мастерством выполнения различных ката и получить значительный опыт ерандо-ри — в додзё Масамото занималось тридцать учеников и Кано ежедневно нужно было провести поединок с каждым из них. Очень часто его тренировки заканчивались лишь к одиннадцати часам вечера, и совсем нередко усталость едва позволяла ему доползти до дому. Когда же Кано добирался домой, он продолжал заново переживать все свои бои во сне и пробивал ударами рук и ног дыры в бумажных стенах своей комнаты.
По мере того как Кано становился сильнее и рос в своем мастерстве, возрастала и его уверенность в себе. На демонстрации, проводимой в Тоцука-рю при Токийском университете, Кано стремительно выпрыгнул из толпы зрителей и присоединился к рандори, поразив при этом непосредственностью своей импровизации как зрителей, так и самих участников. С другой стороны, Капо обнаружил, что чрезмерная самоуверенность может быть опасной — в додзё Масамото он провел очередной бросок слишком небрежно и был буквально пригвожден к полу новичком. Столь явный сигнал тревоги показал Кано, что нельзя недооценивать противника.
В 1881 году, после смерти Масамото, Кано вновь остался без учителя. На этот раз он отправился учиться к Цунэтоси Ийкубо (1835—1889) из Кито-рю. Родословная Кито-рю уходит к середине семнадцатого века. Хотя ведутся споры о личности основателя этой школы, традиции Кито подверглись серьезному влиянию учений школы Ягю и мастера дзэн Такуана (1573—1645), что придало им больший философский оттенок, чем традициям прагматичной Тэнсин Синъё-рю. Во времена Кано Кито-рю сосредоточивалась, в первую очередь, на нагэ-вадза, техниках броска. Как стиль, так и содержание обучения в Кито-рю существенно отличались от принципов Тэнсин Синъё-рю, и Кано был очень рад познакомиться с новым подходом к дзю-дзюцу. Хотя Ийкубо было уже за пятьдесят, он продолжал вести занятия в течение целого дня и попрежнему превосходил своих молодых учеников в рандори. Вероятно, это был самый искусный мастер боевых искусств из всех, у кого Кано доводилось учиться (в своих воспоминаниях Кано говорит: «У Мастера Фукуды я научился тому, какой должна быть работа моей жизни; у Мастера Масамото я научился тонкой природе ката; у Мастера Ийкубо я освоил множество приемов и научился важности своевременности»).
Посвящая тренировкам все вечера, Кано не менее усердно погружался днем в книги, получая в Токийском университете отличные оценки. Одним из его преподавателей был профессор Эрнст Феноллоза (1853—1908) (в то время двадцать семь из тридцати пяти профессоров Токийского университета были людьми с Запада). Хотя он был приглашен в университет в качестве профессора западной философии, Феноллоза увлекся восточной культурой и неустанно поощрял изучение азиатских изящных искусств среди людей Запада и самих японцев. В ранний период Мэйдэи возникла опасность того, что японцы, в своей опрометчивой погоне за модернизацией и стремлении превзойти Запад, могут потерять свою собственную культуру; к примеру, в классах художественных школ кисти начали заменять перьевыми ручками. Феноллоза предостерегал от подобного бездумного заимствования западных обычаев и убеждал своих друзей и студентов (в том числе, и Кано) в том, что традиционные японские искусства представляют собой живые формы, достойные сохранения.
Еще одним из любимейших профессоров Кано был эксцентричный дзэн-буддист Тандзан Хара (1819—1931), преподававший индийскую философию. Хара искусно избегал ловушек религии — Кано разделял с ним такую позицию — и был увековечен в современной литературе по дзэн как герой следующей популярной притчи:
Два молодых монаха, Тандзан и Экидо, отправились в паломничество из одного монастыря в другой. Разыгралась буря, и эти двое подошли к перекрестку, который превратился к тому времени в бурный поток. Посреди него стояла красивая девушка. «Вам помочь?» — спросил Тандзан, и, когда девушка ответила: «Да», он подхватил ее на руки, перенес через затопленную дорогу и поставил на твердую землю по другую сторону от потока. Часа через два, когда два монаха продолжали свой путь, Экидо внезапно взорвался: «Как ты мог позволить себе такое? Ты ведь знаешь, что монахам-буддистам строго запрещено прикасаться к женщинам!» Тандзан ответил: «Что? Ты все еще несешь с собой ту девушку? Что до меня, то я давным-давно оставил ее там, на перекрестке».
Кано закончил Токийский университет в 1881 году, но остался там для дальнейшего обучения еще на год. В феврале 1882 года он перебрался в Эйсё-дзи, небольшой буддистский храм секты Дзёдо в районе Симо-тани города Токио. Там, в возрасте двадцати двух лет, он основал Кодокан, «Институт Изучения Пути».
Кано уже давно влюбился в дзю-дзюцу и верил, что его необходимо сохранить как культурную драгоценность Японии; однако он был убежден и в том, что дзю-дзюцу следует приспособить к современным условиям. Он чувствовал, что основополагающие принципы дзю-дзюцу следует систематизировать в форме Кодокан Дзю-до, дисциплины разума и тела, воспитывающей мудрость и добродетельную жизнь. Сравнивая дзю-дзюцу с Хи-наянои, «малой колесницей» с ограниченным размахом, он уподобил Кодокан Дзю-до Махаяне», «великой колеснице», охватывающей как личность, так и общество в целом. «Если труд человеческого существа не приводит к благу общества, — говорил Кано, — жизнь этого человека тщетна». Что же касается термина дзю-до, который означает «путь мягкости», то он существовал уже несколько столетий. Некоторые старые тексты, к примеру, определяют дзю-до как «путь, который следует течению вещей», что истолковывается в Кодокан Дзю-до Кано как «наиболее эффективное использование энергии».
Кано и горстка его учеников (в первый год официально зарегистрировалось девять человек) занимались первоначально в углу главного зала храма. Вскоре, однако, суровость тренировок начала сказы«Монашеское» направление буддизма. —Прим. персе. «Мирское» направление буддизма. — Прим. персе. зданию, он использовал в качестве додзё. Поскольку большинству учеников было сложно посещать занятия в будни, додзё был открыт по воскресеньям, с семи утра до полудня и с трех часов пополудни до семи вечера. Как учителю, Кано необходимо было постоянно быть на месте, даже в леденящий холод (склад не отапливался) и даже если не показывался ни один ученик. Через несколько месяцев он переехал в Ками Нибан-тё в районе Кодзи-ма-ти и выстроил маленький додзё на свободном месте арендованной земли. Этот додзё работал ежедневно после обеда, с двух часов дня до одиннадцати-двенадцати часов ночи. Теперь Кано мог выходить и давать урок, как только кто-нибудь из учеников приходил на тренировку.
В течение первой половины 1883 года Ийкубо продолжал обучать Кано и попрежнему одерживал над ним верх. Наконец, однажды Кано уловил ключевой момент дзю-до: «Если партнер тянет, я толкаю; если он толкает, я тяну». С этого времени он смог соревноваться со своим учителем на равных. Кано приписывает этот прорыв не какому-либо мистическому переживанию (на которые часто ссылались мастера боевых искусств прошлого), но считает его результатом многих лет внимательных наблюдений и рационального подхода к этому искусству. Хотя осенью 1883 года Ийкубо даровал ему право преподавания в Кито-рю, Кано все еще было трудно привлекать учеников из-за его молодости и недостатка должного тренерского опыта.
В 1883 году у него формально зарегистрировались всего лишь восемь учеников, а на следующий год их было десять. В 1884 году Кано удалось выстроить додзё побольше (хотя его размеров все еще хватало только на двенадцать матов) и установить регулярные дни открытых соревнований. К этому времени постепенно сформировалась классификационная система — первоначально в ней было три начальных уровня (кю) и три уровня для мастеров (дан). Дзёдзиро Томита (1865—1937) и Сиро Сайго (1866— 1922) стали первыми тренерами, удостоенными ранга сёдан. Примерно в то же время Кано ввел кан-гэйко, «тренировку при холодной погоде», — тридцатидневку особых зимних тренировок с четырех до семи часов утра.
В течение этого периода режим дня ученика, живущего в Кодокане, — большинство из таких учеников Кано обеспечивал из собственного кармана — был не менее суровым, чем жизнь монаха. Ученик, живший при школе, должен был подниматься в 4:45 утра и заниматься безукоризненной уборкой своей комнаты, служебных зданий и всей территории. День был четко разделен на время изучения книг (философия, политические науки, экономика и психология) и практику дзю-до. Во время изучения книг ученик должен был надевать кимоно с хакама (специальными очень широкими штанами) и сидеть в сэйдза. Даже когда ученик не работал с книгами и не тренировался, он был занят обслуживанием гостей, приготовлением пищи или ванн. День заканчивался в 9:30 вечера.
Раз в неделю Кано и ученики встречались на чаепитии, а послеобеденное время по воскресеньям посвящалось продолжительной прогулке. Девизом академии Кано были слова: «Делай сам», поэтому каждый ученик лично отвечал за стирку и штопку своей одежды. Личное расписание Кано было точно таким же, если не считать дополнительных нагрузок; часто ему приходилось просиживать всю ночь над переводами для Министерства Образования в попытках свести концы с концами. Занявшись одновременно изучением западных видов спорта — борьбы и бокса, — Кано продолжал погружаться в исследование классических японских систем будо. Будучи лишь немногим старше своих учеников, Кано продолжал тренироваться не менее упорно, чем они. Сиро Сайго, до прихода в Кодокан изучавший тайные техники осики-ути у самурая из Айдзу, был тем самым учеником, который быстро научился противостоять броскам своего учителя. В результате Кано пришлось непрерывно оттачивать приемы Кодокана, основанные как на его практическом опыте, так и на теоретических изысканиях. Оглядываясь на те ранние дни Кодокана, легко заметить, что основное внимание в нем уделялось броскам, а из рандори постепенно исчезали самые опасные приемы.
В течение этого периода Кано много занимался дзю-до за пределами своего додзё. Тогда ему часто приходилось пользоваться лошадью, чтобы всюду успевать, однако он так никогда сносно и не освоил верховой езды. Лишь благодаря его опыту падений, получен-‘ ному на занятиях дзю-до, он научился безопасно приземляться на ноги каждый раз, когда конь сбрасывал его.
К 1885 году число желающих обучаться у него возросло до пятидесяти четырех человек; к нему обратилось даже несколько иностранцев. Первыми его иностранными учениками стали, судя по всему, два брата Истлэйк из Соединенных Штатов (долго они не продержались, но в 1899 им на смену пришел профессор Лэдд из Принстонского университета, который провел в Кодокане десять месяцев серьезных тренировок). В 1866 году Кано вновь переехал, на сей раз в Фудзими-тё, и там ему удалось построить прекрасное здание на сорок матов — в том году к нему записались девяносто девять учеников. В додзё при Фудзими-тё ученики с уровнями дан впервые начали носить черные пояса как знак своего статуса.
В течение следующих лет представители Кодокана начали выделяться на открытых состязаниях, организуемых Национальным агенством полиции. Эти славные победы давно стали частью мифологии Кодокан Дзю-до, хотя в существующих свидетельствах можно обнаружить множество разногласий относительно того, где, когда и с какими противниками проходили встречи. Например, Сайго чествуют за его прославленную победу с помощью приема яма-араси («буря в горах»), хотя точно не известно, что именно представляла собой эта техника. Кое-кто утверждает, что яма-араси означает скорее сам стиль Сайго, «подобный сильному ветру, завывающему средь горных вершин», чем какой-либо отдельный прием.
Кроме того, представляется, что правила этих состязаний были достаточно благоприятными для представителей Кодокана, поскольку большинство летальных приемов старых стилей и школ были в них запрещены (до того времени открытые состязания несли в себе смертельную угрозу; участники таких боев на всякий случай прощались со своими родными и близкими, прежде чем вступить в борьбу). Несомненным остается одно: представители Кодокана действительно прекрасно проявили себя на этих состязаниях, равно как и во многих других открытых боях, Хотя обычно представители Кодокана выступали очень хорошо, они ни в коем случае не были непобедимыми. Один из самых сильных воспитанников Кодокана, Санбо Току (1886—1945), отказывался учиться падениям, поскольку «никто никогда не сможет заставить меня упасть». Это могло быть справедливым по отношению к боям в самом Кодокане или уличным дракам (однажды Току справился с целой командой бразильских моряков), однако когда Току встретился с Дзэнму Куний (скончался в 1930) из Кадзима Син-рю, тот бросал его, «словно котенка».
Другими мастерами, не покорившимися представителям Кодокана, были Морикити Омори (1853—1930), виртуоз сильного удара из Иотин Тоцука-рю, сражавший любого противника своим неотразимым приемом киай-дзюцу (форма гипноза в боевых искусствах), и Матаэмон Танабэ (1851— 1928), изящный и исполненный достоинства человек, научившийся побеждать противника, «упражняясь в ловле угрей голыми руками и наблюдая за змеями, заглатывающими лягушек».
Многие школы старых стилей, подобные Синдо Рокуго Кай, объединялись, чтобы противостоять Кодокан Дзю-до, но такие организации просто не могли сравниться с подробно продуманной и тщательно спланированной системой Кано.
В апреле 1988 года Кано и преподобный Т. Линдсей представили статью «Дзю-дзюцу» (и, возможно, провели демонстрацию) членам Азиатского Общества Японии — исследовательской группе, состоявшей их англоговорящих иностранных дипломатов, профессоров и бизнесменов. В этой статье авторы утверждали, что, хотя и существуют свидетельства того, что некоторые японские боевые искусства формировались под влиянием китайского бокса, дзю-дзюцу имеет чистые национальные корни. Статья иллюстрировала принцип дзю на примере легенды о древнем учителе, который наблюдал, как ветви ивы прогибаются, но не ломаются под тяжестью снега. В ней приводились также истории о знаменитых мастерах дзю-дзюцу, в том числе и рассказ о Дзюсине Сэ-кигути (1597—1670). Однажды, когда Сэкигути и его господин проходили по узкому мосту, господин решил устроить проверку мастеру дзю-дзюцу и неожиданно столкнул того с края. Сэкигути подался назад и, казалось, начал падать, но в последнюю секунду вывернулся, и ему пришлось спасать своего господина, который по инерции чуть не полетел вниз головой в воду. К 1889 году, когда Кано вновь перебрался в район Ками-Нибан-тё, у него было уже более полутора тысяч постоянных учеников и несколько отделений Кодокана в разных частях Токио. Кодокан Дзю-до Кано уверенно прокладывал свой путь к выдающемуся положению в мире боевых искусств современной Японии.
В августе 1889 года Кано оставил свой пост в Гакусюин и, но требованию Императорского хозяйственного агентства, готовился ‘ предпринять длительное путешествие по образовательным заведениям Европы. Оставив своих старших воспитанников Сайго и Томиту во главе Кодокана, в сопровождении еще одного официального лица из Императорского хозяйственного агенства он отплыл из Иокогамы 15 сентября 1889 года. Учитывая, что в те времена лишь немногие японцы пересекали океан, не удивительно, что Кано и его спутник оказались единственными японцами-пассажирами на судне.
Сделав недолгую остановку в Шанхае, они прибыли в Марсель в октябре. В течение следующего года Кано посетил Лион, Париж, Брюссель, Берлин, Вену, Копенгаген, Стокгольм, Амстердам, Гаагу, Роттердам и Лондон, а на обратном пути остановился в Каире, чтобы увидеть пирамиды. Самым сильным впечатлением Кано за время путешествия стало огромное число церквей и соборов, и тогда он впервые осознал, что религия обладала в европейском обществе всепрони-кающей силой. Однако после бесед с самими европейцами и наблюдений за их поведением он сделал вывод, что религия в Европе могла иметь большое влияние в прошлом, но сейчас ситуация изменилась.
Поразила Кано и бережливость европейцев, старающихся ничего не терять впустую. Такая добродетель, распространенная в иных странах, вновь подтвердила одно из основных убеждений Кано: в дзю-до, как и в повседневной жизни, человек должен стремиться к наиболее эффективному использованию предметов и энергии. Он также заметил, что в то время как японские студенты, изучающие иностранные языки, стеснялись писать или говорить на них из боязни сделать ошибку, сами коренные жители этих стран искажали свой язык в разговоре и присылали ему письма с множеством грамматических ошибок. Разумеется, идеал заключался совсем не в этом, но это убедило Кано в том, что японским студентам не следует чрезмерно беспокоиться о своих ошибках при изучении устного или письменного иностранного языка. В целом, Кано был чрезвычайно доволен своей первой поездкой в Европу и чувствовал, что японцы и европейцы вполне могут сотрудничать на дружественной основе.
После посещения Египта в компании англичанина, француза, голландца, швейцарца и австрийца, Кано с гордостью рассказывал своим друзьям в Японии, что он один смог взобраться на вершину пирамиды и спуститься вниз без посторонней помощи и передышек. Во время долгого путешествия домой Кано беседовал с попутчиками о дзю-до и демонстрировал им его действенность. На корабле служил очень сильный русский матрос, и ради развлечения был устроен бой между ним и Кано. Матрос быстро взял Кано в крепкий захват, и мастеру дзю-до удалось на лету изобрести новый прием — «наполовину коси-нагэ, наполовину сэой-нагэ» — и одолеть своего противника броском. Больше всего толпу наблюдающих пассажиров поразило не то, что такой маленький человек смог одолеть такого огромного, но то, что Кано удерживал матроса таким образом, чтобы тот не получил повреждений, ударившись о палубу.
Когда судно остановилось в Сайгоне, Кано отправился на прогулку по городу. На окраине его неожиданно окружила свора бродячих псов. Его первой мыслью была идея избить их, но, когда к нему вернулось хладнокровие, он обнаружил, что собаки тоже приутихли. Он спокойно прошел мимо них, и они не причинили ему никакого вреда. Кано вернулся в Японию в середине января 1891 года; его путешествие длилось шестнадцать месяцев. К несчастью, за это время Сайго попал в неприятности. Как уже упоминалось, в те ранние годы некоторые воспитанники Кодокана продолжали посещать соперничающие школы с целью проверки своего мастерства. Среди них был и Сайго, который, в компании приятелей из школ дзю-дзюцу, но не из Кодокана, слонялся по шумным рыночным площадям и принимал любой вызов на состязание. Однажды Сайго и его приятели столкнулись с группой борцов сумо, которую возглавлял чудовищный Арауми, «Бушующее Море». Арау-ми быстро расправился с его товарищами, и Сайго пришлось вступить в бой. Хотя Сайго был пьян от сакэ, ему все же удалось уложить Арауми на лопатки. Но когда огромный борец вонзил зубы глубоко в щеку Сайго, тот не выдержал и начал бить его кулаками. Последовала отчаянная драка между сумоистами и представителями дзю-дзюцу, кто-то вызвал полицию, и вся компания угодила в тюрьму.
Дело осложнялось тем, что в общей свалке Сайго ударил нескольких полицейских. Членам Кодокана удалось вытащить Сайго из-под ареста, но, когда Кано узнал об этом происшествии, ему не оставалось ничего иного, кроме как исключить своего лучшего ученика «за нарушение правил Кодокана». Сайго сбежал в далекий Нагасаки и бросил занятия дзю-дзюцу и дзю-до (в Нагасаки Сайго занялся кю-до, японской стрельбой из лука, и достиг в этом искусстве не меньшего совершенства, чем в дзю-дзюцу). Когда Сайго умер, Кано, в знак прощения, присвоил своему своенравному бывшему ученику посмертный ранг «Шестой Дан Кодокан Дзю-до».
В 1891 году Кано, которому исполнился тридцать один год, решил, что пришла пора обзавестись семьей, и, после поисков подходящей партии с помощью старших, женился в августе того же года на Сумако Такэдзоэ. Увы, уже в следующем месяце Кано пришлось покинуть жену и принять должность директора Пятой высшей школы в отдаленном Кумамото.
Как обычно, нововведения в образовании медленно доходили до провинциальных районов, поэтому Кано рассматривал свою работу в Пятой высшей школе как особое испытание. Бюджет ее был мизерным, хозяйство скудным, а учителя — недостаточно подготовленными. Не было в ней и додзё. В отсутствие средств на его постройку, Кано и его ученики вынуждены были заниматься прямо под открытым небом. Позже, когда у школы появилась возможность построить додзё, к Кано присоединилось несколько его воспитанников из Токио и они занялись распространением Кодокан Дзю-до в Южной Японии.
Одним из новых учителей, нанятых в школу — предположительно, по личному приглашению Кано, хотя остается неясным, как они познакомились, — был Лафкадио Хирн (1850—1904). Хирн написал эссе о дзю-дзюцу, вошедшее в его книгу «С Востока», которая была впервые опубликована в 1894 году. В этом не очень связном сочинении мало говорится о Кано и дзю-до, но выражается очень верная мысль о том, что в общении с силами Запада японцам следует придерживаться духа дзю-до — «гибко, но твердо». В своих воспоминаниях Кано описывает очень торжественную церемонию, проводившуюся в городе;
все ее участники были одеты в западном стиле: строгие сюртуки, европейские платья или военная форма, за исключением единственного человека, облаченного в японскую одежду, — Лафкадио Хирна, В 1893 году Кано вернулся в Токио и занял пост директора Первой высшей школы, а немногим позже — ту же должность в Токийском педагогическом училище. Теперь он смог воссоединиться со своей женой, и в конце года у него родился первый ребенок, девочка. У этой супружеской пары было восемь детей — пять девочек и три мальчика.
На следующий год в Сима То-мидзака-тё был выстроен прекрасный додзё на сто матов, и тогда впервые была назначена небольшая оплата за обучение (в течение всей жизни Кано оплата занятий в Кодокане оставалась вполне приемлемой благодаря поддержке множества щедрых покровителей).
В том же 1884 году началась китайско-японская война. Последовавшая военная горячка сделала практику дзю-до более популярной, хотя сам Кано не делал ничего, что поощряло бы подобные настроения. В течение этого времени часто происходили случаи «продуктового бандитизма». В Кодокане появился похититель, который в течение нескольких дней таскал продукты у живущих в школе студентов. Два ученика были поставлены на страже, но, когда они набросились на бандита, облаченного в облик китайского ниндзя, он жестоко избил их, после чего усмехнулся:
«Жалкие слабаки! Неужели это лучшие из тех, кого смогли поставить на охрану?» Выслушав отчет о тревожном ночном событии, старшие воспитанники додзё пришли в замешательство. Если им необходимы четыре-пять учеников Кодокана, чтобы справиться с одним бандитом, это бросит тень на авторитет их дзю-до, потому они решили обратиться к Сакудзиро Иокояма (1862—1912) с просьбой о защите чести Кодокана. Прославившийся своим ошеломляющим тэнгу-нагэ и носивший прозвище «Демон», Иокояма однажды в течение пятидесяти пяти минут вел поединок с чемпионом по дзю-дзюцу по имени Накамура, пока начальник полиции столицы, перед которым проходило это состязание, не вмешался и не огласил ничью.
Следующей ночью, как и ожидалось, бандит спустился с крыши, и завязался эпический бой. Кем бы он ни был, грабитель определенно хорошо владел китайским кулачным боем, но у Иокоямы были свои приемы. В результате ни один из них не мог похвастаться победой, но бандит никогда больше не возвращался к новой встрече с Иокоя-мой или кем-то из Кодокана.
В 1895 году в Кодокане были официально введены гокё-но-вадза, пять групп инструкций. Каждая группа состояла из восьми показательных техник — взмахи ногами, броски и падения. В 1986 году была окончательно установлена сётю-гэйко — так сказать, «тренировка в разгар лета», жаркая противоположность холодной «зимней тренировке», которая практиковалась там уже давно.
В течение этого года Кано начал читать регулярный курс лекций по Трем Элементам дзю-до, суть которых можно выразить следующим образом.
Дзю-до как физическое образование
Цель физического образования, говорил Кано, заключается в том, чтобы сделать тело «сильным, полезным и здоровым». Далее, в процессе физического образования все мышцы тела должны развиваться симметрично. Прискорбно, по словам Кано, что большинство видов спорта обычно развивают лишь определенные группы мышц и пренебрегают другими. В результате возникает физическая неуравновешенность. Кано разработал для занимающихся дзю-до определенный набор разогревающих упражнений, развивающих все мышцы тела. Кроме того, необходимы регулярные практики как ката, так и рандори. Ката, которые нужно выполнять как право, так и левосторонними, несут в себе основы атаки ‘и обороны. С другой стороны, рандори представляет собой тренировку в вольном стиле. В обоих случаях все движения должны выполняться согласно принципу сэйрёку дзэн-ё — «наиболее эффективное использование силы».
Дзю-до как спорт
Рандори является основой состязания в дзю-до, спортивным элементом системы Кано. Летальные приемы в нем запрещены, и противники пытаются одержать чистую победу благодаря отточенной технике, наиболее эффективному использованию энергии и надлежащего чувства времени. Рандори представляет собой, таким образом, проверку прогресса человека в освоении этого искусства и позволяет ученику оценивать, насколько хорошо он способен действовать в сравнении с другими. Отмечая важность рандори, Кано особо подчеркивает, что соревновательность является лишь частью системы Кодокан Дзю-до, и ее значение не следует переоценивать.
Дзю-до как этическая подготовка
Обучение Кодокан Дзю-до, по мнению Кано, помогает человеку стать более бдительным, уверенным в себе, решительным и сосредоточенным. Еще более существенно то, что Кодокан Дзю-до рассматривалось как средство обучения применению другого важнейшего принципа Кано — дзита кеэи, «взаимопомощь и сотрудничество». В применении к общественной жизни, принципы Кодокан Дзю-до — прилежность, гибкость, экономичность, хорошие манеры и этичное поведение — являются огромным благом для всех.
В своих лекциях Кано, кроме того, выделил Пять Принципов дзю-до в повседневной жизни:
- Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за всем окружающим.
- Владей инициативой в любом начинании.
- Осмысливай полностью, действуй решительно.
- Знай, когда следует остановиться.
- Придерживайся среднего между радостью и подавленностью, истощением и ленью, безрассудной бравадой и трусостью.
В течение трех последующих десятилетий происходило последовательное распространение Кодокан Дзю-до как на его родине, так и за ее границами. Все эти годы Кано выдерживал полную нагрузку руководителя Кодокана, директора Токийского высшего педагогического училища, члена множества правительственных консультационных комитетов и, с 1909 года, роль главного представителя Японии в Международном Олимпийском Комитете (в довершение, в 1922 году Кано был избран в Палату Пэров). Хотя он продолжал давать лекции и демонстрации по Кодокан Дзю-до, но примерно с тридцати пяти лет очень редко проводил практические занятия.
В 1902 году Кано посетил Китай с целью официального осмотра образовательных заведений. Династия Цин разваливалась, и обстановку в Китае едва ли можно было назвать идеальной. По возвращении Кано расширил академию для обучения китайских студентов, которую он основал несколькими годами ранее в надежде, что эти студенты смогут «сделать глоток свежего воздуха», а вернувшись, помогут в модернизации своей родины. Хотя это не входило в список обязательных дисциплин, некоторые китайские студенты занимались Кодокан Дзю-до во время своей учебы в Токио.
Заморские посетители стали в Кодокане привычным явлением, и в 1903 году американский промышленник Сэмюэл Хилл предложил Йосиаки Ямасите (1875—1935) обучать Кодокан Дзю-до его сына в Соединенных Штатах. Ямасита был известен в Кодокане как первый студент, попытавшийся в течение года принять участие в 10000 поединков (он лишь немного не дотя- нул до этого числа, успев сразиться 9617 раз). Ямасита принял предложение Хилла, но, к сожалению, тот не успел предварительно условиться об этом со своей женой, и, когда Ямасита прибыл в Соединенные Штаты, их договор был сорван из-за непреклонной позиции миссис Хилл: «Дзю-до жестоко и грубо».
Однако Хиллу удалось устроить для Ямаситы другое место учителя, а также встречу в Белом Доме с президентом Рузвельтом. После чтения книги Инадзо Нитобэ (1862—1933) «Бусидо: душа Японии» у Рузвельта возник острый интерес к японским боевым искусствам. Президент пожелал увидеть демонстрацию Кодокан Дзю-до, и в результате Ямасита, рост которого составлял пять футов четыре дюйма, а вес 150 фунтов*, встретился с американским борцом, едва ли не вдвое превышавшим его по этим показателям. Ямасита сделал несколько бросков — ив конце концов уложил противника на лопатки. Рузвельт был настолько впечатлен этим, что посодействовал в предоставлении Ямасите должности преподавателя дзю-до в Военно-морской Академии США с окладом в 5000 долларов, что составляло по тем временам поистине королевскую зарплату. Очаровательная жена Ямаситы, которая тоже неплохо владела дзю-до, обучала этому искусству дам из высшего света. Эта супружеская пара провела в Соединенных Штатах два плодотворных года.
Визит Дзёдзиро Томиты и Ми-цуё Маэды (1880—1941) в Белый Дом в следующем, 1904 году был намного менее успешным. Президенту Рузвельту хотелось, чтобы в столице был свой учитель дзю-до, поскольку Ямасита преподавал в другом месте. Кано отрекомендовал на эту роль Томиту, своего старшего ученика. Томита был утонченным и образованным человеком и знал английский язык, но уровень его дзю-до был не таким высоким, как мастерство Сайго, Иокоямы или Ямаситы. Кроме того, за несколько лет до этого события он серьезно повредил плечо. Кано осознавал недостатки Томиты, о чем свидетельствует тот факт, что он отправил вместе с ним Маэду, который в то время считался сильнейшим из молодых учеников дзюдо в Кодокане. Очевидно, идея заключалась в том, чтобы Маэда участвовал в схватках, а Томита разъяснял теорию Кодокан Дзю-до. Этот план успешно сработал во время демонстрации в Вест-Пойнте, где Маэда сперва противостоял атакам футболиста*, а затем — боксера. Однако на приеме в Белом Доме все обернулось не так хорошо. После того, как Томита и Маэда формально представили Кодокан Дзю-до, один футболист из числа присутствующих неожиданно бросил им вызов. Обстоятельства были таковы, что бороться пришлось Томите, а не Маэде, и это закончилось плачевно: ему не удалось провести бросок, и он немедленно оказался придавленным к полу грузом тела футболиста. Президент Рузвельт дипломатично отвергнул дальнейшие состязания, предположив, что на Томиту, по всей видимости, скверно повлияло изменение климата, после чего они были приглашены на обед в Белый Дом.
Вскоре после этого Томита вернулся в Японию, но Маэда, пристыженный поражением Томиты и истово жаждущий восстановить превосходство Кодокан Дзюдо, остался в Америке. Он уговорил нескольких японских бизнесменов рискнуть тысячей долларов в качестве ставок на состязаниях и вступил в длительную серию поединков с любыми противниками от Северной до Южной Америки. Говорят, что Маэда, рост которого составлял 5 футов 5 дюймов, а вес — 154 фунта*, участвовал в тысяче состязаний, не проиграв ни одного соревнования в стилях, сходных с дзю-до, и потерпев лишь одно-два поражения в поединках с профессиональными борцами. В Бразилии, где он остался до конца своих дней, Маэда стал известен как Конте Комте («Граф Поединка»), а его жесткая система боя, которую сейчас называют «грациозным дзю-дзюцу», используется некоторыми бойцами в современных профессиональных схватках «без запретов».
Примерно в то время, когда Маэда совершал свои бойцовские туры, тем же занимался и американец по имени Эд Сантеру (точное произношение его фамилии неизвестно). В дополнение к тому, что он был первоклассным мастером борьбы в западном стиле, Сантеру очень быстро перенял техники своих противников из направлений дзю-дзюцу и Кодокан Дзю-до (кроме вышеупомянутых представителей Кодокан Дзю-до, множество воспитанников других школ появлялось в Америке уже с 1880 года). Обогатившие опыт сражений Сантеру японские мастера боевых искусств потеряли для него элемент неожиданности, и очень скоро он начал регулярно побеждать представителей Кодокан Дзю-до или, по меньшей мере, сводить поединки с ними вничью. Говорят, что он брал приступом даже японские центры, а позже объявил себя чемпионом мира по дзю-до. Его последний документированный поединок прошел в 1924 году в Лос-Анжелесе против представителя Кодокан Дзю-до по имени Ота; три раунда этой схватки закончились ничьей.
Кано с самого начала не одобрял подобной практики свободных состязаний — именно за нарушение этого правила он исключил из школы своего любимого и многообещающего ученика Сайго — и несколько раз устанавливал запреты, в которых осуждал подобные соревнования как «противоречащие духу Кодокан Дзю-до». Никогда за все то время, пока Кано возглавлял Кодокан Дзю-до, его целью не была победа в поединке любой ценой. Уже в преклонном возрасте, после посещения одного из состязаний, чрезвычайно разочарованный Кано собрал его участников и отругал их: «Вы сражаетесь, как молодые быки, сталкивающиеся рогами; ни в одном из приемов, которые я сегодня видел, не было ни отточенности, ни изящества. Я никогда не учил никого такому Кодокан Дзю-до. Если все вы будете думать только о победе с помощью грубой силы, наступит конец Кодокан Дзю-до».
Время вновь и вновь доказывало тщетность попыток полагаться исключительно на технику. К примеру, в 1929 году гордые и самоуверенные члены Клуба Дзю-до при Университете Васэда отправились в Соединенные Штаты для участия в турнире с Клубом Борьбы Вашингтонского университета. Первый тур проводился по правилам Кодокан Дзю-до, и японцы победили со счетом 10:0. Во втором туре использовались правила борьбы в западном стиле, и на этот раз со счетом 10:0 победили американцы. Правила последнего раунда определялись жребием, подброшенной монетой. Удача улыбнулась японцам, но вместо того, чтобы подтвердить ожидания легкой победы, они проиграли или свели вничью все схватки, за исключением одной. В то время как представители дзю-до из университета Васэда пребывали в замешательстве и смущении от неизвестного стиля своих противников, борцы из Вашингтонского Университета быстро научились тому, чего можно ожидать от японцев, и соответственно видоизменили свои приемы; в результате они победили японцев «на их территории».
Хотя большинство подобных срстязаний проходило в Соединенных Штатах, Кодокан Дзю-до уверенно прокладывало свой путь и в Европе. Как обычно, первоначальный интерес возбуждался новостями о том, что маленькие японцы легкими ударами укладывали на землю крупных европейцев, но, как только новизна таких сообщений иссякла, начались серьезные занятия Кодокан Дзю-до. Интересно, что практика дзю-до стала очень популярной среди британских суфражисток, и уже в 1913 году там сформировалась группа владеющих дзю-до женщин, называющаяся «Телохранитель»; задачей группы была защита активисток движения от силового сопротивления мужчин.
Во время русско-японской войны 1904—1905 годов многие старшие воспитанники Кодокана, включая генерала Хиросэ и адмирала Асано, погибли в боях. Кано предостерегал своих соотечественников от ложной самоуверенности после неожиданных побед Японии над Китаем и Россией. Китай, отягощенный безнадежно продажным имперским двором и устаревшей армией, терпел поражение изнутри; Россия была не способна в дос- таточной мере снабжать отдаленный Дальний Восток войсками и боевой техникой, но, если бы война велась поближе к Москве, ее результаты могли бы быть совершенно противоположными. «Война никогда не идет на пользу, — писал Кано, — и непрерывные сражения рано или поздно приводят к поражению». В
1906 году Кодокан вновь расширяется; на сей раз он переезжает в додзё на двести семь матов в районе Симо-Томисака-тё. Примерно в то же время стандартом становится дзю-до-ги (форменная одежда дзюдо) в том виде, в каком она известна нам сегодня (прежде брюки часто были очень короткими, а куртки шились по самым разным образцам). В 1908 году японский парламент принимает закон об обязательном обучении кэн-до или дзюдо в средних школах.
В 1909 году Кано избирается первым японским представителем в Международном Олимпийском Комитете. Хотя Кано был предельно добросовестным членом этого комитета и в конце концов добился проведения Олимпийских Игр 1940 года в Токио, он занимал довольно неоднозначную позицию по отношению к введению Кодокан Дзюдо в программу Олимпийских Игр. Как уже упоминалось, Кано был глубоко обеспокоен возрастанием значения спортивных побед и боялся, что олимпийское дзю-до может стать орудием национализма. Разумеется, он одобрял открытые международные турниры, но не хотел, чтобы они стали формой противостояния между различными странами и мерилом расового превосходства (дзю-до вошло в список олимпийских видов спорта лишь в 1964 году, спустя много лет после смерти Кано, и следует признать, что демонстрируемое на Олимпиадах дзю-до имело мало общего с исходными идеалами Кодокан Дзю-до).
С 1910 по 1920 годы Кано неутомимо продолжал преподавание и поездки. В возрасте шестидесяти лет он покинул пост директора Токийского высшего педагогического училища и отправился в длительное путешествие по Европе и Соединенным Штатам. Большое землетрясение в Канто в 1923 году пощадило Кодокан и не причинило ему серьезных повреждений, поэтому поездки и лекции Кано продолжались. Помимо прочего, он выступил с речью «Необходимость английского образования в современном международном обществе». В 1926 году в Кодокане было официально открыто женское отделение. Кано всегда активно призывал женщин к практике дзю-до; он часто повторял: «Если вы хотите по-настоящему понять дзю-до, понаблюдайте за тренирующейся женщиной». Вероятно, самой одаренной ученицей Кано была Кэйко Фукудо (род. в 1914), внучка его первого учителя Хатиносукэ Фуку-ды, автора англоязычной книги «Рожденный на ковре».
В 1927 году Кано довелось побывать на Окинаве, и он занялся изучением местной культуры, в том числе и каратэ. Там Кано стал свидетелем схватки мангусты и смертельно ядовитой гадюки (подобные представления до сих пор уст- раиваются для туристов). Как обычно, мангуста быстро расправилась со змеей, поскольку, по наблюдениям Кано, использовала дзюдо: «Она увертывалась от ударов гадюки и тут же, с совершенной своевременностью, контратаковала».
Во время его пребывания па Окинаве у Кано спросили, как практикующий дзю-до должен вести себя при столкновении с диким животным. «Самое опасное животное, с которым можно встретиться на крупных островах Японии, — медведь. Медведи становятся свирепыми, когда они зажаты в угол, но их можно отпугнуть громкими звуками или ярким огнем. В лучших традициях дзю-до удерживать медведя на расстоянии и вести себя предельно осторожно, не пытаясь сражаться с ним лицом к лицу».
В 1929 году индийский философ и Нобелевский лауреат Рабин-дранат Тагор посетил Кодокан и попросил Кано прислать учителя дзю-до для преподавания в университете, который Тагор основал в Бомбее. Дзю-до, мягкий путь, пустило корни среди индусов и до сих пор широко распространено в Индии.
Последние двадцать пять лет жизни Кано прошли в почти непрерывных путешествиях по родине и за границей. За свою жизнь он тринадцать раз пересек океан и посетил четыре континента. Несмотря на непрестанные сложные поездки, Кано никогда не жаловался на усталость; ему не нравилось слышать фразу «Оцукарэ-сама дэсита» («Вы, должно быть, устали?»), и, возвращаясь из очередного путешествия, он отмахивался от любого подобного приветствия. , Кано любил жизнь. Он наслаждался хорошей кухней и приятными напитками Востока и Запада (но ненавидел курение; он мог отказаться от присутствия на банкете, на котором было разрешено курить). Полный энтузиазма каллиграф и заядлый игрок в сякухати, Кано покровительствовал традиционным японским искусствам, в частности классической музыке и танцу. Ему очень нравились серьезные беседы о внутренних и международных делах, и нередко споры в его кабинете в Кодокане затягивались далеко за полночь.
Нет ничего неожиданного в том, что при таком непоседливом образе жизни Кано скончался во время путешествия. В 1938 году Кано отправился в Каир на заседание Олимпийского Комитета, на котором обсуждалась организация Олимпийских Игр 1940 года в Токио (в конце концов, эта Олимпиада была сорвана из-за начала Второй мировой войны). Европейские представители предлагали провести Игры в августе, но Кано предложил сентябрь: «В августе в Японии очень жарко и влажно. Японцы, которые привыкли к такой удушливой жаре, получат решающее преимущество перед спортсменами других стран».
Возвращаясь в Токио на судне «Хикава-мару», Кано заболел и тихо скончался 4 мая 1938 года, в возрасте семидесяти восьми лет.
Жизнь и учение Кано лучше всего отражаются словами, которые он писал, создавая Кодокан Дзю-до: «Учение одного добродетельного человека способно повлиять на многих; то, что было хорошо усвоено одним поколением, будет передано сотням поколений».